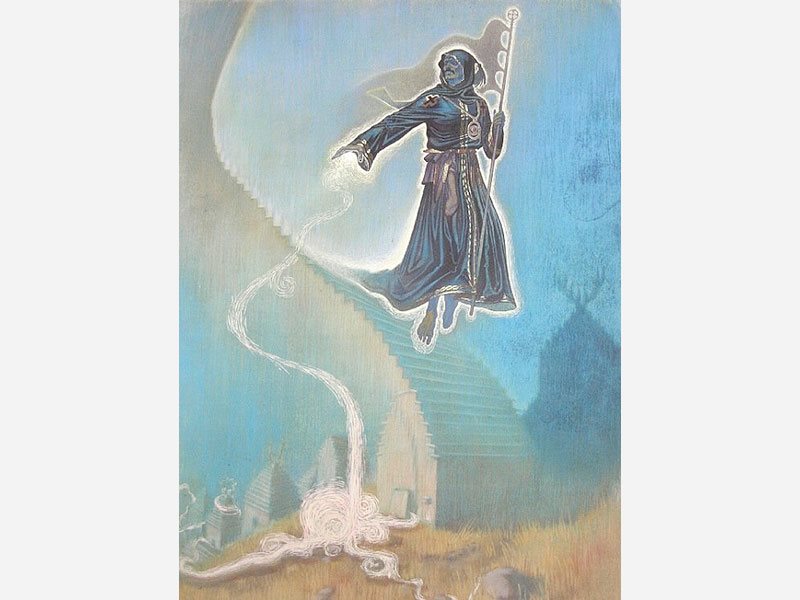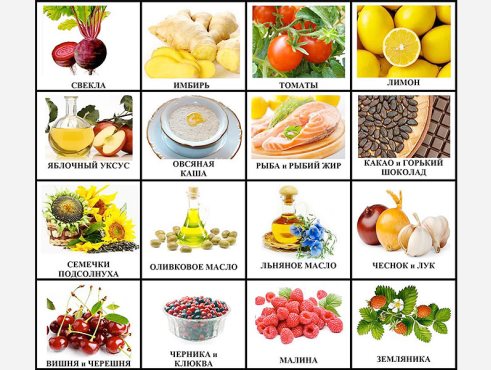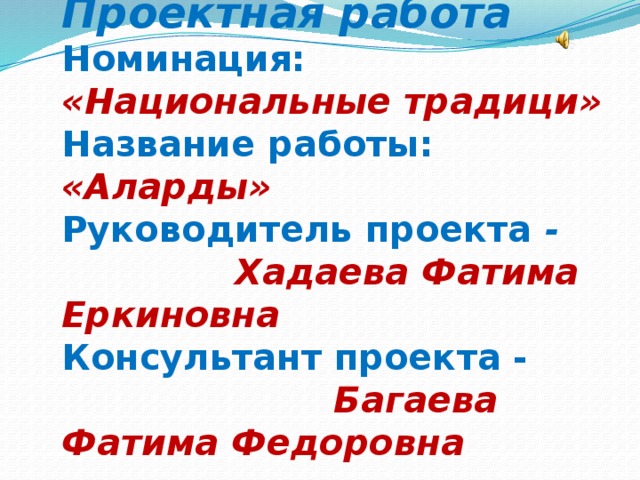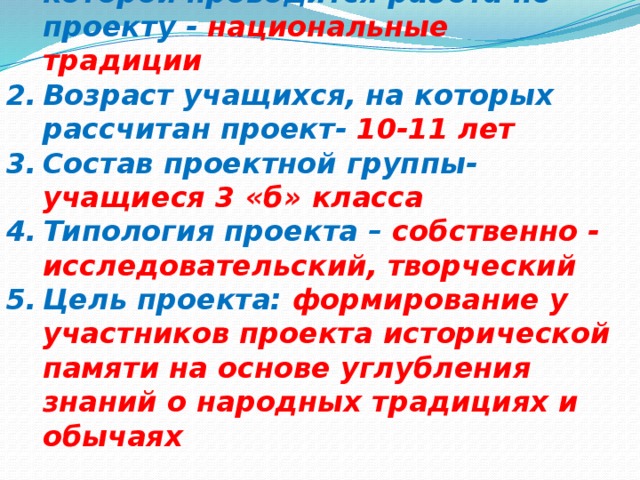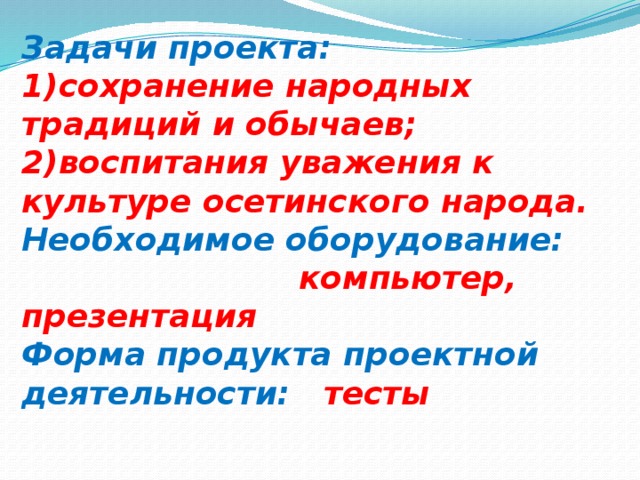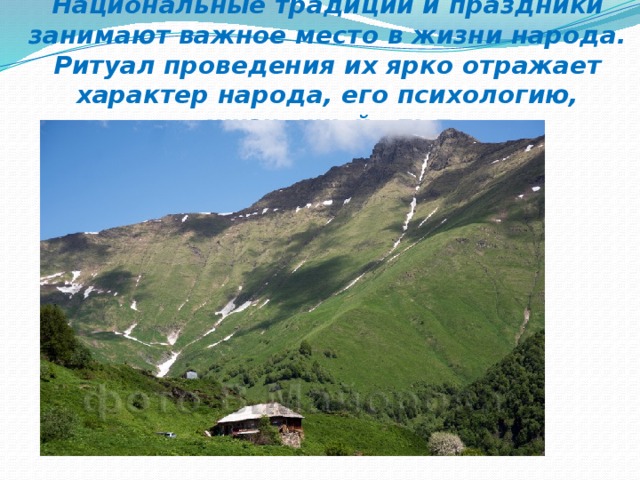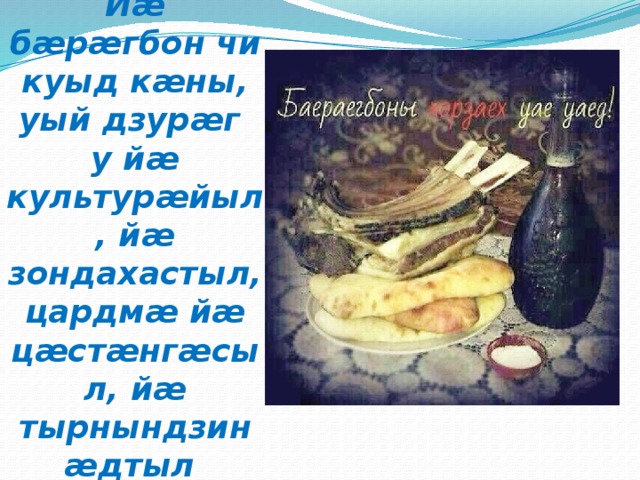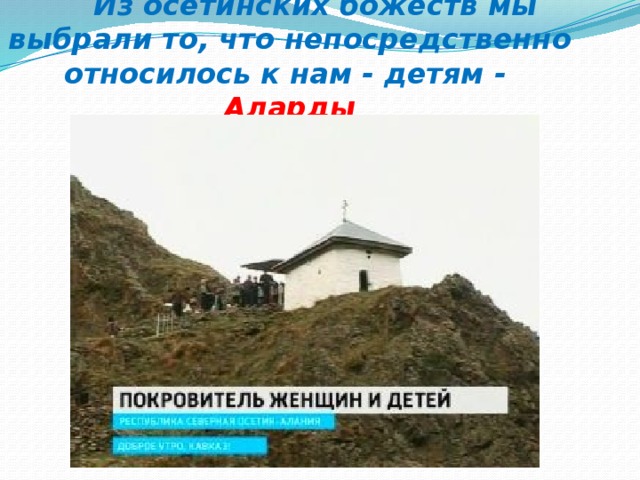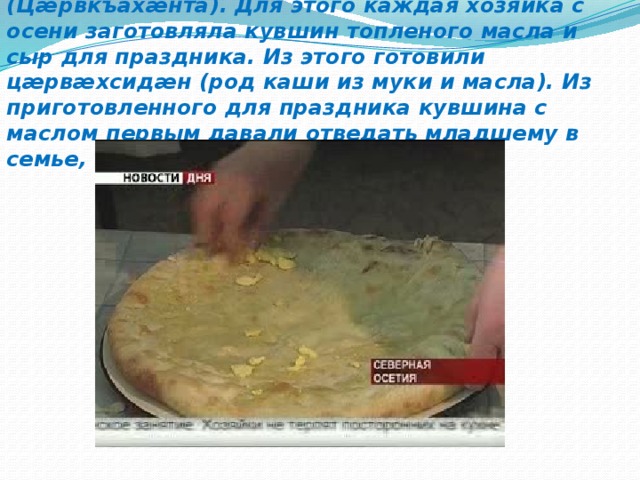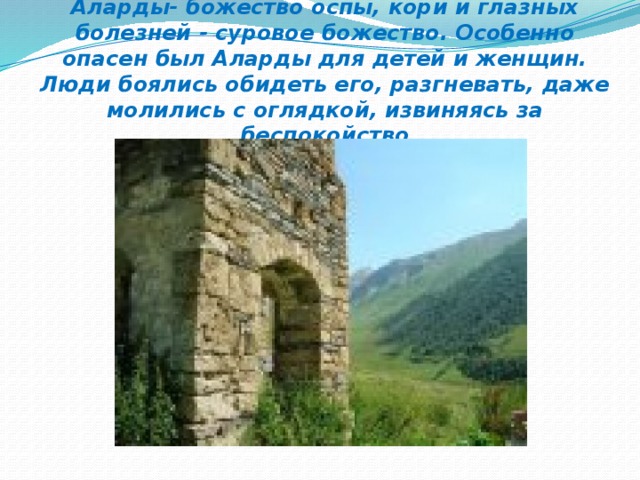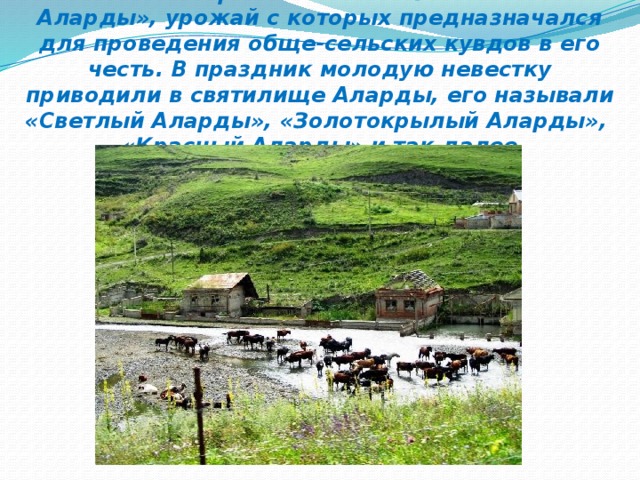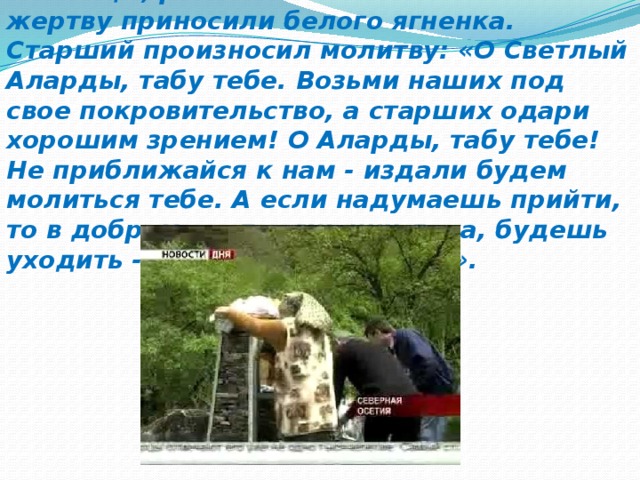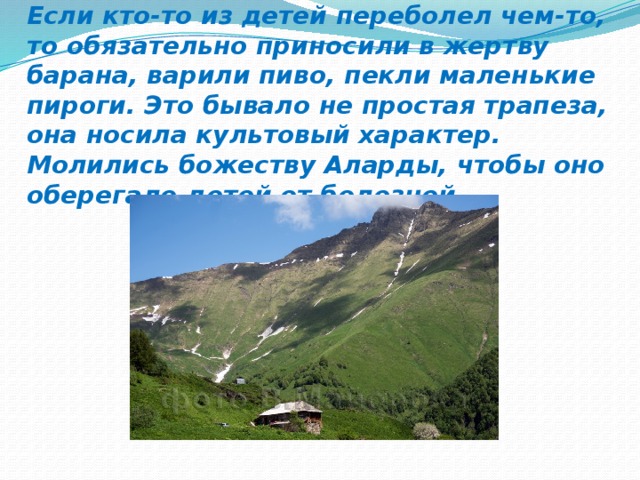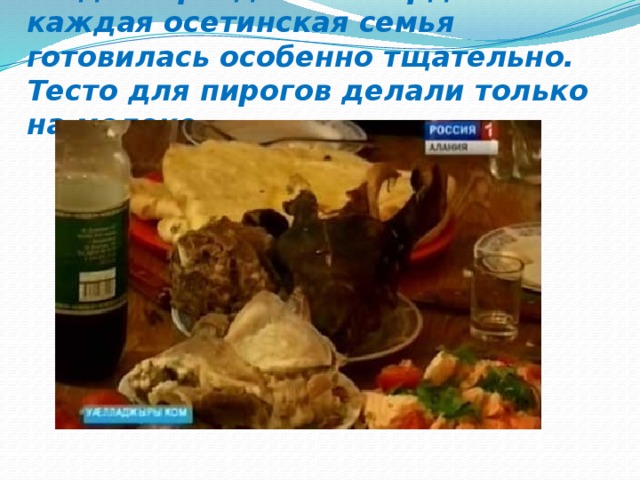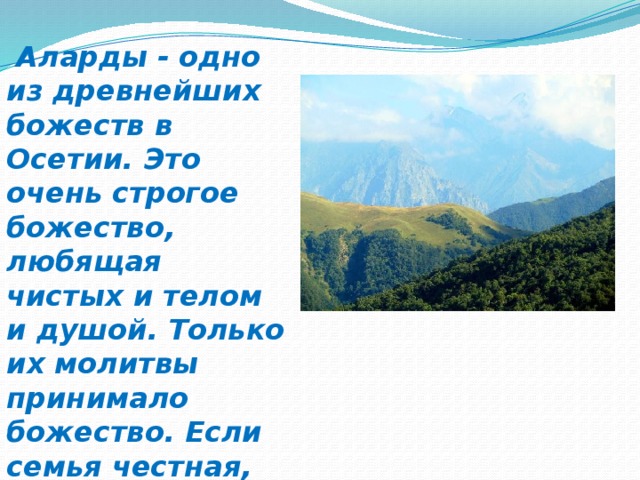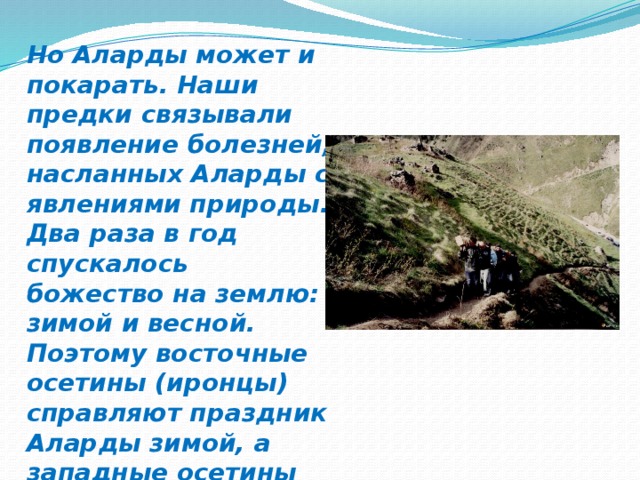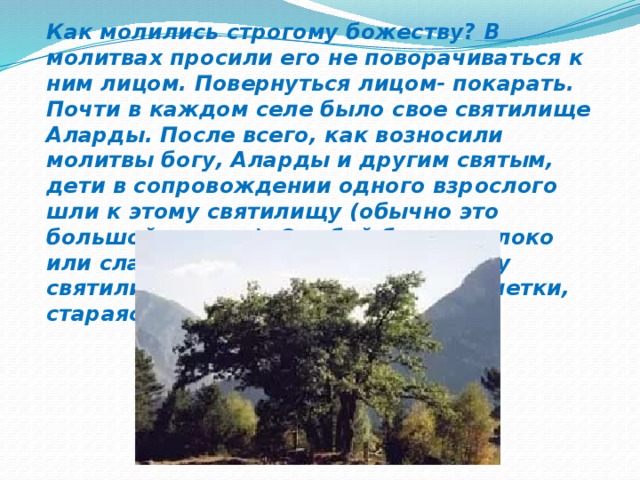Передаваясь из поколения в поколение, обрядовая поэзия донесла до нас бесценные свидетельства народного восприятия действительности, воззрения предков на природу и попытки воздействия на неё силой слова и действа. Проявлением такого синкретизма — сочетания музыкального, вербального и акционального кодов — представляется автору праздник Аларды.
Рассмотрим этнографический материал по обрядности Аларды.
Наиболее ранняя фиксация культа Аларды — в труде Б. Гатиева «Суеверия и предрассудки у осетин» [3, 48-50]. К циклу весенних праздников, отмечаемых по два раза в год, относят кувд «патрону оспы Аларды» В. Ф. Миллер [7, 275] и B. C. Уарзиати [9, 8-39].
Имя Аларды акад. В. Ф. Миллеру представляется не осетинским, а «искажением какого-нибудь иностранного» [7, 251].
В словарной статье об Alardy|Alaurdi в «Историко-этимологическом словаре осетинского языка» В. И. Абаева это — название одного из осетинских дзуаров («божеств») [2, 43]; а также культ божества, насылающего оспу, который связан с древним ритуалом «очищения» от эпидемических заболеваний, в частности — оспы [1, 112].
По В. И. Абаеву, название Alardy происходит от локуса Алаверды в Кахетии с древним и весьма почитавшимся в Восточной Грузии храмом Иоанна Крестителя, где ежегодно в сентябре справлялось празднество, привлекавшее множество богомольцев, в том числе много больных, приезжавших в надежде получить исцеление, т.е. название местности дало название дзуара. В подтверждение происхождения Alardy < Алаверды учёный приводит дигорскую форму Alaurdi, а также тот факт, что у осетин и грузин-мохевцев Дарьяльского ущелья праздник божеству Аларды совпадает с днём Иоанна Крестителя. Это позволяет думать, что именно на последнего были перенесены черты древнего божества, одновременно и насылающего болезнь, и исцеляющего от неё. Типологическим двойником осетинского Alardy является абхазский Aqǝ Zǝshàn (бог оспы) [2, 43-44].
У Л. А. Чибирова читаем, что «…дух Аларды — святой, насылающий оспу, а также, как утверждают некоторые источники, — глазные болезни. Перед этим самым страшным духом особенно трепетали женщины, величали его светлым, золотым. (Выделено нами. — М. Д.) Некоторыми исследователями Аларды причисляется к разряду наиболее злых духов, почитание которого было основано на страхе перед ним. После выздоровления заболевший оспой в обязательном порядке накрывал стол и поручал себя его покровительству» [11, 58].
В «Материалах по этнографии Абхазии» отмечается сравнительно недавно появившийся у абхазов повелитель оспы Зоусхана или Зосхана: «…по рассказам стариков, до выселения в Турцию абхазы почти совершенно не знали оспы; занесли ее к ним псхувцы и ахчипсхувцы, когда в 1864 году выселились из родных гор в Турцию…» [12, 209], что также свидетельствует в пользу высказанного В. И. Абаевым мнения, что культ Аларды моложе его наименования.
Г. Ф. Чурсин ссылается на сведения, опубликованные П. Пантюховым в 1867 году: «В мае 1865 г. мне случилось в сопровождении толпы абхазцев выезжать из Окумского в Абживский округ, где свирепствовала натуральная оспа, и у меня остались в памяти те странные и уныло — торжественные звуки молитвы, которую пела эта, большею частью седобородая, толпа, обращаясь к недавно открытому здесь повелителю оспы Зус-хану». Молитва эта заканчивалась следующим обращением: «Псхувский и ахчипсхувский каратель, причинивший им беды и в Бзыбском округе, помилуй нас! Ханейзико, Хания белая, мать Зус-хана, посылает беды и милует, и Зус-хан, золотой Зус-хан, помогает». (Выделено нами. — М. Д.) [12, 209].
К середине XX столетия количество праздников в Наро-Мамисонской котловине, замечает Л. А. Чибиров, переваливало за пятнадцать, в то время как выходцы из этой котловины в Моздокской равнине отмечали лишь Аларды, Таранджелоз и Хохы дзуар. (Выделено нами. — М.Д.) [11,424].
Необычайный интерес вызывает вербальная сторона обряда, взятая из текстов осетинских молитвословий. По определению Т. А. Хамицаевой, молитвословия — самостоятельный жанр обрядовой поэзии осетин, сопровождающий разные обряды, и те из них, которые произносятся, например, в празднование какого-нибудь местного дзуара, не могу быть произнесены во время свадьбы или поминок [8, 14]. Эти молитвы примечательны своеобразной системой эпитетов, характеризующих небесного покровителя Аларды.
Всеволод Миллер считал, что обычные эпитеты властителя оспы — сыгъзӕрин (золотой), сыгъдӕг (чистый), сырх (красный, прекрасный), рухс/рохс (светлый), базырджын (крылатый), карз (гневный, суровый, гневливый) «стоят как-то в разрез с обычными обращениями к другим святым» [7,250]. К примеру, эпитет сызгъӕрин (золотой) придается в текстах бӕхфӕлдисын только Христу (Майрӕмы фырт сызгъӕрин Чырысти), что, по мнению ученого, обусловлено иконографическим влиянием «как воспоминание икон с золотым окладом» [Там же, 250].
По мнению автора статьи, определения божества-дзуара Аларды связаны с ублажением и лестью под страхом гнева этого дзуара: оспа обладает разрушительной силой, могущей явиться через красоту. Эпитеты сыгъдӕг, рухс, сырх и сыгъзӕрин, многозначные по содержанию, здесь обозначают высшую степень красоты, которая даётся только после очищения.
Ср.: Табу, табу, рохс Алаурди,
Гъей, гъей-та, уарайда-рӕ! [8, 45].
…Табу, сыгъзсерин Аларды, кӕдӕм цӕуыс?
Гъей, табу, рухс Аларды! [Там же, 45].
Ср.: эпитет сыгъдӕг применительно к Христу:
Йӕ дуӕртты раз дыл сӕмбӕлдзӕни
Майрӕмы фырт сызгъӕрин Чырысти
Ӕмсе дӕ мидӕмсе бакӕндзсени [Там же, 155-156].
«Над мах барӕ нӕй.
Нӕ астӕу сугъзӕринӕстуггин лӕхъуӕн бадуй,
Над уой бӕрагӕ ӕй» [Там же, 160].
Все эти слова в идеосемантическом плане являются дериватами «огня». Слова со значением «огонь» используются и в значении «чистый» (имеется в виду очистительная функция огня — очищение огнём); ср.: осет. сыгъдӕг (syğdag) «чистый» < осет. sudzyn «жечь, гореть». Огонь символизирует святость: syğdag «настоящий, святой» < осет. sudzyn «жечь, гореть» (ведь огонь считался первотворением Божества, основой сущего, с которым соотносилось и понятие середины, центра Порядка) [4, 79].
Как известно, характерной формой проявления энергии является огонь, а понятия жара (нагревания) и холода (охлаждения) являются антиподами. Для символического выражения данных состояний в культуре существует цветовой ряд: жар (энергия) ассоциируется с красным, а прохлада (охлаждение) — с белым цветом. Согласно этому, Е. Б. Бесолова определяет структуру классического ритуала как «прохождение стадии нагрева с последующим охлаждением, символизирующим возвращение к норме или обновленному состоянию, что, безусловно, есть движение от красного цвета к белому; ср.: Сугъзӕринӕ сурх Алурдийӕн уорс уӕриккитӕ — хъурманлухътӕ, уорс галтӕ — … нивӕндтӕ… — Золотому красному Аларды белых ягнят в жертву, белых быков -… в жертвоприношение…» [Там же, 76].
Но в обряде имеет место очищение и через воду, так как она символизирует обновление, очищение и освящение.
В материалах фольклорной экспедиции в Куртатинское ущелье 1991 г. имеется следующая информация о праздновании дня Аларды: «Алардыйы бон — Алардыйы къуыппмӕ хӕссынц кусартӕн (уӕрыккӕн) йӕ сӕр, физонӕг, чъиритӕ. Сывӕллӕттӕ ӕмӕ устытӕ ацӕуынц, фӕхъазынц, фӕнайынц. Хистӕр сылгоймаг бакувы. — День Аларды — на холм Аларды несут голову жертвенного барана, мясо, пироги. Дети и женщины идут туда, играют, купаются. Старшая из женщин молится» [14, 18-19].
Касаясь обрядности Аларды, B. C. Уарзиати подчеркивает его существенные особенности: хотя культ его построен на страхе перед гневом дзуара, на лести и ублажении, осетины в то же время ни под каким видом «не приближали» Аларды к себе.
Эту отстранённость, дистанционность мы нашли в раннем тексте молитвы Аларды, приводимой Б. Гатиевым: «О, св. Аларда! молим тебя, зри на нас издалека и ради твоего имени не подходи к нам близко (они боятся, чтобы Аларда, подходя близко к селению, не стал умерщвлять и уродовать их оспою), но внимай оттуда молитвам нашим, которые вместе с сими жертвами да будут сладки твоему сердцу; если же, против чаяния, посетишь нас, жен и детей наших, то оставляй всех с веселыми сердцами; о, карз-Аларда (гневный Аларда!) избран ные тобою для будущего года нывонды (нывонды избираются за год до праздника) прими вместо голов наших и нашего скота» [3, 50].
Только этим обстоятельством, думаем, мотивируется и тот факт, что святилища этого грозного святого возводились фасадом в противоположную от села сторону. В молитвословиях его просили: «Гъе Аларды, дӕ чъылдыммӕ дын кувдзыстӕм, де ‘ргом наем ма раздах / О Аларды, спине твоей будем молиться, лицом к нам не развернись» [9,49].
А также:
«О, Аларды, хӕстӕг нӕм ма ‘рцу,
Дардӕй дӕм кувдзыстӕм!
Сыгъдсег Аларды!
Нӕ сывӕллсеттсе де уазӕг! —
О, Аларды, не подходи к нам близко,
Издалека будем тебе молиться!
Чистый Аларды!
Пусть дети наши будут под твоим покровительством!» [14, 18-19].
Все молитвы в честь Аларды носят хвалебный характер и содержат просьбы о благополучии детей, о проявлении милости.
«Уым дӕр кусарт акӕнынц, фӕкувынц «Аларды, табу дӕхицӕн. — Там тоже приносят жертву, молятся «Аларды, слава тебе»; «Нӕ гыццылтӕ де ‘уазӕг, фӕкувынц. — Пусть младшие наши будут под твоим покровительством, так молятся» [13, 65].
Как мы можем заметить, молитвы близки по форме и содержанию и характеризуются рядом общих признаков:
— структурно-семантической схожестью (в начале молитвы — обращение «Табу дӕхицӕн!»; хвала Аларды с использованием принятых эпитетов — сызгъӕрин, сыгъдӕг и других, используемых также в песнях-гимнах; просьбы, связанные с благополучием детей, чтобы небесный покровитель Аларды избавил их от болезней, проявил свою милость, обходил их стороной; обещание молиться впредь Аларды, точнее, спине его, и, как следствие, просьба не приближаться);
— формами словесно-образного выражения (общие места, устойчивые формулы);
— интонационной организованностью.
Не стоит забывать также о вариативности и о том, что каждая молитва имеет свои специфические особенности, связанные с проявлением индивидуального мастерства исполнителя.
Негативные функции дзуара Аларды также хорошо иллюстрируются примером из осетинского необрядового фольклора.
К примеру, в сказке пастух говорит Аларды, пришедшему к нему за бараном для ужина: «Уӕдӕ кӕд Аларды дӕ, уӕд мӕнӕй хорз нӕ фендзынӕ, фӕлӕ дӕ фӕндаджы кой кӕн, — дзуапп ын радта фый- йау. — Мӕгуыр лӕгыл низтӕ бафтауыс, йӕ иунӕг хъӕбулы йын мӕрдтӕм барвитыс, бонджын та ӕнӕмаст у, йӕ бирӕ цот — ӕнӕниз мӕ сӕрӕгас… — Если ты, Аларды, то от меня добра не жди, иди своей дорогой, — ответил ему пастух. — На бедняка насылаешь ты болезни, единственное дитя его отправляешь в царство мертвых, а богатый живет без забот, его многочисленные дети живы и здоровы…» [6, 68].
В процессе анализа этнографический материал выявил в ритуальной обрядности Аларды очищающую роль не только огня, воды, но и камня, о чём свидетельствуют приведённые ниже примеры.
В Чегемском ущелье есть большой длинный камень, который называют Нар таш (Камень нартов). Жители ущелья приносили к этому камню новорожденных детей, резали жертвенных баранов и устраивали там угощение. Нарт таш обливали водой, а воду, стекавшую с камня, собирали и купали в неё ребенка [Цит. по: 5, 621].
В Дигорском ущелье святилище в честь Аларды в окрестностях развалин с. Мастинока называется Алаурдий дор «Алаурди камень» [10, 378].
«В Чегемском ущелье на вершине горы был почитаемый камень, которому молились от накожной болезни. Его называли Ительген Таш или Ительген джор (джор — крест). Была специальная женщина, которая совершала обряд. Ей приносили 3 пирога. Она клала больного ребенка под камень, поворачивала с боку на бок и приговаривала…» [15, 78].
Дур / Дор (диг.) — камень. Камень в древности обожествлялся: он считался символом внеземных сил, вместилищем огня и душ умерших. Понятие камня ассоциировалось у древних с понятиями святости и божественной чистоты.
Таким образом, семантика культового термина Аларды раскрывается как в структуре самого обряда, так и в обрядовой терминологии, представленной в текстах молитвословий, а также в песнях-гимнах, посвященному покровителю оспы.
Литература:
1. Абаев В. И. Избранные труды: Религия, фольклор, литература. Владикавказ: Ир, 1990.
2. Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т.Ӏ. Издательство АН СССР, 1958.
3. Гатиев Б. Суеверия и предрассудки у осетин // Сборник сведений о кавказских горцах. IX. Тифлис, 1876.
4. Бесолова Е. Б. Язык и обряд: Похоронно-поминальная обрядность Осетии в аспекте её текстуально-вербального выражения. Владикавказ: ИПО СОИГСИ, 2008.
5. Джапуа З. Д. Сюжет о чудесном рождении героя из камня в абхазском нартском эпосе (Опыт реконструкции архаической семантики)//Кавказ: история, культура, традиции, языки. По материалам Международной научной конференции, посвященной 75-летию Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И.Гулиа АНА 28-31 мая 2001 г. Сухум.: АбИГИ, 2003.
6. Ирон таурӕгътӕ (Осетинские легенды)/ Сост. Ш. Джикаев. Орджоникидзе: Ир,1989.
7. Миллер Всеволод. Осетинские этюды. Владикавказ, 1992.
8. Памятники народного творчества осетин//Сост. Т.А. Хамицаева. — Владикавказ: Ир, 1992.
9. Уарзиати B. C. Избранные труды: Этнология. Культурология. Семиотика / сост. В.А. Цагараев, Е.М. Кочиева. Владикавказ: Проект-Пресс, 2007.
10. Цагаева А. Д. Топонимия Северной Осетии. Орджоникидзе: Ир, 1975.
11. Чибирсв Л. А. Традиционная духовная культура осетин. М: РОС-СПЭН, 2008.
12. Чурсин Г. Ф. Материалы по этнографии Абхазии. Сухуми: Абхазское государственное издательство, 1957.
13. НА СОИГСИ. Фольклор, инв. 1.955, д.645, л.65. Материалы фольклорной экспедиции 1994 г. Кобанское ущелье.
14. НА СОИГСИ. Фольклор, инв. №1.617, д.631, л.18-19.
15. НА СОИГСИ. История. Фонд 9, оп. 1, д. 10, л.78.
М. В. Дарчиева, стажер-исследователь СОИГСИ им. В. И. Абаева
↑ Наверх
Аларды
01.03.2021
17:25
988
0
Где бы я ни был: в России, или странах Запада – всегда обращал внимание на то, что национальные праздники у всех народов во многом похожи. Все они рассчитаны на массовость, обрядовость. Становясь традицией, они передаются из поколения в поколение.
У человек, где бы он ни находился, должно присутствовать чувство защищенности, а оно имеет место в том случае, если за ним стоит его народ, нация, культура.
Не случайно у осетин в далекие времена появился праздник Аларды. В осетинской мифологии Аларды – божество оспы, кори и глазных болезней. По представлениям народа, это красное, иногда белое чудовище с очень безобразным лицом, наводящим страх на людей. Живя на небе, оно иногда спускается на землю по золотой или серебряной лестнице. Предками осетин Аларды призывался с целью умилостивить светлым золотым дзуаром.
Во всех ущельях Северной Осетии были общесельские, даже фамильные, святилища в честь Аларды. Особенно он почитался жителями Закинского и Садонского поселений.
Праздник, посвященный этому божеству, отмечавшийся в конце мая – начале июня, сопровождался приношением жертвы – обычно белого барашка – и обращением в молитвах к Аларды с просьбой уберечь детей и взрослых от оспы и других болезней, которые он наводил на людей. Он, по преданию, самый злейший из святых в осетинском пантеоне.
В этом году празднования дней Аларды начинаются в понедельник, 1 марта (Алардыйы къуырисар). Примечательно, что одной из особенностей культа было то, что каждое из святилищ, построенных в его честь, имело фасад, который «смотрел» в противоположную сторону от селений.
Читают по данной тематике
-
Зажженный вами не погаснет свет!
05.10.2018
14:45Редакция
01.01.2017
8:00 -
Разжижаем кровь
13.06.2018
16:45Реклама и реквизиты
01.01.2017
2:30 -
Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность
01.05.2016
17:45Открытие Аланской гимназии
31.08.2017
17:15 -
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА В ОСЕТИИ
24.09.2020
17:55ОрджВОКУ — 100 лет!
20.11.2018
12:15
- Авторы
- Резюме
- Файлы
- Ключевые слова
- Литература
Дарчиева М.В.
1
1 Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева Владикавказского научного центра Российской академии наук и Правительства Республики Северная Осетия – Алания
В предлагаемой статье в этнолингвистическом ключе рассматриваются особенности «праздничного времени» в Нартовском эпосе и осетинской традиционной культуре, его отличия от бытового повседневного времени и связь с «праздничным пространством». Акцентируется внимание на отражении «праздничного времени» в вербальной составляющей обряда, где в отдельную группу выделены молитвословия и тексты хвалебных песен в честь святого Аларды, а также приветственные формулы и благопожелания, произнесение которых является неотъемлемым элементом праздничной коммуникации. Названия периодов празднования включены в отдельную терминологическую систему обрядового текста. Рассматриваются табуированные тексты, обусловленные общей системой запретов, касающейся не только вербальной стороны обряда. Исчисление «праздничного времени», определяющего календарный год, в эпических сказаниях осуществляется теми же способами, что и в ходе традиционных праздников. Принимая во внимание локализацию «праздничного времени» в пространстве, раскрывается и роль игрищ (хъазт) в структуре праздника.
«праздничное время»
праздник
игрища
эпос
нарты
традиционная культура осетин
1. Ванченко Т.П. Семантика массового праздника//Аналитика культурологии. – 2009. Выпуск 1 (13). – URL: http://analiculturolog.ru/component/k2/item/402-article_35.html (дата обращения: 01.07.2012).
2. Круглова Т.А. Новый год как праздничный ритуал советской эпохи // Известия Уральского государственного университета. – 2010. – № 2(76). – С. 5–14.
3. Нартæ. Ирон адæмон эпос (Нарты. Осетинский народный эпос). – Цхинвали: Ирыстон, 1975. – 360 с.
4. Нартовские сказания: Эпос осетинского народа. Кн. 2. – Владикавказ: ИПП им. В.А. Гассиева, 2004. – 896 с.
5. Нарты. Осетинский героический эпос в трех книгах. Книга 1. – М.: Наука, 1990. – 431 с.; Книга 2. – М.: Наука, 1989. – 492 с.; Книга 3. – М.: Наука, 1991. – 175 с.
6. Осетинско-русский словарь/ 5-е изд. / Бигулаев Б.Б., Гагкаев К.Е., Гуриев Т.А. и др. – Владикавказ: Алания, 2004. – 540 с.
7. Разумова И.А. Время в семейном историческом нарративе. URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/razumova6.htm (дата обращения 02.07.2012).
8. Сказания о Нартах; в 5-ти томах. Т. I / сост. К.Ц. Гутиев. – Орджоникидзе: Ир, 1989. – 496 с.
9. Тубалова И.В., Эмер Ю.А. Текстовое пространство дня города и дня рождения вуза // Вестник Томского государственного университета. – 2009. – № 2 (6).– С. 11–22.
10. Хенниг Эйхберг. Социальное конструирование времени и пространства как возвращение социологии к философии // Логос. – 2006. – № 3.– С. 76–90.
11. Элиаде М. Священное и мирское. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 144 с.
12. Энциклопедия культур. – URL: http://ec-dejavu.ru/p/Pustota.html (дата обращения 01.07.2012).
Одним из значимых элементов культуры, как известно, является праздник. Актуальность рассмотрения его структуры подтверждается высказыванием о том, что «праздничный код каждой культуры отражает специфику мироопределения этноса, его социокультурные, религиозные и национально-специфические установки» [9: 11], имеющие исключительное значение для каждого представителя народа.
Исходя из понимания праздника в традиционной культуре, его обязательным компонентом является ритуальная составляющая, которая помогает дифференцировать «праздничное время и пространство» от обыденности, следовательно, «праздничные ритуалы всегда несут в себе концепцию времени, специфическим образом сочетая линейное (мирское) и круговое (священное) время» [2: 7]. В ходе праздничного ритуала человек как бы заново переживает важнейшие события как вечные, непреходящие и неизменные во времени.
Об этом же свидетельствует материал «Энциклопедии культур» о «праздничном времени» в русском языке: «…праздничное время (праздный – исконно русск. – порожний) сегодня и в недалеком прошлом время, свободное от работы, но для мифопоэтического сознания это время исполнения акта первотворения, т.е. это время абсолютного начала, абсолютно пустое время-пространство, и одновременно праздничный хронотоп чреват рождением-заполнением. Праздник – время, когда смерть предшествует рождению, когда опустошение некоего мифического сосуда есть одновременно наполнение чаши на праздничном столе и распространение изобилия во всем мире» [12]. Значение праздника в осетинском языке передано лексемой бæрæгбон (бæрæг – известный, определённый, отмеченный; бон – день). И в этом смысле это праздничное сакральное время, отличающееся от времени бытового.
О взаимоотношении «Священного Времени» и «Мирского Времени» изначально писал Мирча Элиаде. Священное время характеризуется обратимостью, является мифическим временем, актуализирующимся в настоящем: «На каждом периодически повторяющемся празднике вновь обретается то же Священное время, что и во время праздника, как год или даже век тому назад…» [11: 49–50], – тогда как Мирское время есть «обычная временная протяженность, в которой разворачиваются действия, лишенные религиозной значимости» [11: 49].
В структуре праздника особую роль играет текстовая составляющая, рассматриваемая современными учёными как «компонент праздничного дискурса» [9: 11]. Так, в вербальной составляющей праздника Аларды, наравне с молитвословиями и текстами хвалебных песен в честь святого, следует выделить формулы особого праздничного общения, воплощённые в благопожеланиях и приветствиях. Согласно Т.П. Ванченко, «любой акт праздничного поведения индивида социален по своей природе, так как включен через каналы различного порядка в контекст социальной действительности, в функционирование общественной системы» [1]. Опираясь на понимание коммуникации как наиболее общей и универсальной категория общества, способствующей связи индивидов друг с другом, а также с окружающей социальной и природной средой, Т.П. Ванченко определяет праздник как «результат локализации общения как во времени, так и в пространстве (причем в особом праздничном пространстве-времени)», предполагающий «особое праздничное общение» [1].
В записанных нами в сел. Згид Алагирского района во время праздника Аларды текстах встречаются следующие приветственные формулы и благопожелания:
– Бæрæгбоны хорзæх уæ уæд! – С праздником!
– Ахъазгæнæг уæд, ахъазгæнæг! Алардыйы хорзæх уæ уæд! – Пусть покровительствует вам! Пусть Аларды будет к вам благосклонен!
– Алардыйы хорзæхтæ уæ уæд! – Пусть Аларды будет к вам благосклонен!
– Ахъазгæнæг дын уæд, ахъазгæнæг! – Пусть покровительствует вам!
– Алардыйæн йæ хорзæх! – Пусть Аларды будет благосклонен!
– Аларды уын æххуысгæнæг уæд! Ахъаз уын кæнæд! – Пусть Аларды вам помогает! Пусть покровительствует вам! (Тексты из личного архива автора.)
В праздничной обрядности осетин одно из универсальных благопожеланий хозяевам праздника от гостей – Бæрсткуывд ут! – Да будет ваша молитва угодна Богу (святым)! Оно же встречается в текстах эпических сказаний: «Уырызмæг араст æмæ ацыди куывдмæ. Загъта:
– Уæ куывд барст уæд, фæсивæд!–
Урызмаг вышел и отправился на кувд. Сказал, [когда пришел]:
– Да будет ваш кувд угоден [богу], молодежь!» [5 кн. 1: 260; 5 кн. 2: 238]. Встречается и другое благопожелание: «Фарн уæ куывды! – Да будет фарн (благодать) в вашем кувде!» [8: 454].
Следует сказать о том, что произнесение благопожеланий и подобного рода приветствий, отличающихся от повседневного общения, является неотъемлемым элементом праздничной коммуникации, впрочем, как и намеренное исключение из праздничного общения другого вербального текста – сквернословия. Следовательно, в контексте праздничной коммуникации есть как обязательные для произнесения компоненты (благопожелания, молитвы), без которых в данном случае, полноценное воспроизведение обряда немыслимо, так и табуированные тексты, произнесение которых невозможно представить в данном дискурсе. Табуированные тексты обусловлены общей системой запретов, касающейся не только вербальной составляющей обряда. Что же касается хвалебных песен, то со временем они утрачивают свой обязательный характер.
Исчисление праздничного времени, определяющего календарный год, в структуре рассматриваемого праздника передано выражением иу Алардыйæ иннæ Алардымæ (от одного Аларды до другого Аларды) или иннæ абонæй иннæ абонмæ (от другого дня до другого дня). Для сравнения, в Нартовских сказаниях осетин встречается выражение иннабонæй иннабонмæ: «Стыр куывд скодтой Сосланы кадæн нарты адæм æмæ уым иннабонæй иннабонмæ куыннæ фæминас кодтаиккой! – Большой пир устроили нарты в честь Сослана – да и как им было не пировать от одного дня недели до другого такого же дня!» [5 кн. 1: 151; 5 кн. 2: 92]. Иннабонæй иннабонмæ – распространенная в осетинском фольклоре формула неопределённого эпического времени, «букв. «от другого сегодня до другого сегодня», возможно, «в течение недели» [5 кн. 3: 12]. Однако есть основания не согласиться с составителями комментариев к эпосу по поводу неопределенности времени: из контекста становится ясно, о каком временном отрезке идёт речь. Так, например, в сказании «Сатана æмæ Борæгъанты чызг» («Шатана и Борагановская девица») говорится: «Борæгъантæ сын сарæзтой иннабонæй-иннабонмæ чындзæхсæв. Сæ къуырийы бон куы сæххæст ис, уæд рараст сты нарты чындзхæсджытæ æмæ сфардæг сты Нартæ хъæумæ. – Борагановы устроили свадьбу от одного дня недели до другого такого же дня. А когда наступил тот день, отправились [оттуда] нартовские дружки и прибыли в Нартовское селение» [5 кн.1: 108; 5 кн. 2: 41].
Названия периодов празднования включены в отдельную терминологическую систему обрядового текста: Алардыйы бæрæгбон, куывд – собственно день празднования, арфæгæнæн – день выражения благодарности, устраиваемый в селении Згид спустя примерно три недели после праздника Аларды. «Йер 23-йы та сын арфæгæнæн уыдзæни. Уæд та йер йам цардахъытæ чи и, дæлæ алы мыггаг дæр, гъе уыдон иу ранмæ сæ хойраг æрхæсдзысты, иу ранмæ сæ мысайнаг æрхæсдзысты æмæ балхæндзысты кусæрттаг, æмæ æнæхъæн хъæумæ арвитдзысты. – А 23-го у них будет арфаганан (благодарение). И тогда все молельные дома, каждый род, все принесут свои кушанья в одно место, принесут свой мысайнаг (денежное приношение) в одно место и купят кусарттаг (жертвенное животное), и позовут всё село» (Текст из личного архива автора).
Дзерасса Цагараева, принимавшая участие в празднике Аларды, так определила примерный возраст камня Алардыйы авдæн (колыбель Аларды), находящегося у святилища: «Ацы дурыл бирæ æнустæ цæуы. Æз дæр ыл ахуыссыдтæн, дæлæ ахæм, хъæбысы сывæллон, куы уыдтæн, уæд. Гъе æмæ мæныл уже 74 азы цæуы, знон мæ 74 сæххæхст и. – Этому камню много столетий. И я на нём лежала, когда была таким же грудным ребёнком. А мне уже 74 года, вчера 74 года исполнилось» (Текст из личного архива автора). Любопытно, что от примерного определения возраста камня информант подходит к указанию собственного возраста, а дальше и к рассказу о семье и родине предков. Здесь детализированный, пусть и краткий, рассказ о родине предков относится к разделу устной семейной мемуаристики. О семейном и генеалогическом времени в подобного рода рассказах подробно говорится в работе «Время в семейном историческом нарративе» И.А. Разумовой. Оба времени бывают представлены в меморатах: «генеалогическое время» является внешним (временем = пространством) для отдельно взятой семейной группы», тогда как семейное время «совмещает линейную и циклическую модели» [7].
Описание праздника – куывд (молитва/празднество/пир) в эпических сказаниях непременно сопровождается картинами застолья: «Приготовились Алагата: все, что бог создал из напитков и съестного, было у них. Потом пригласили они нартов; расселись нарты рядами. Во главе одного ряда старшим сидел Урызмаг, другого – Хамиц, третьего – Сосрыко, четвёртого – сын Хиза, Челахсартаг, из фарсагов, человек зажиточный. Затем начали нарты пить, возносить тосты» [5 кн. 2:121–122]. Следует оговорить, что в самом праздновании не принимали участие нартовские женщины:
«– Гъе, уæйуæй, устур нарт, маке уи байзайа!
Уæ уоститæ уæ дзиппи хæссун байдæдтайтæ кувдмæ. –
– Хе, уаууай, могучие нарты,
Да погибнуть вам всем!
Своих жен стали носить в кармане на кувд» [5 кн. 1: 249; 5 кн. 2: 224].
Любопытную формулировку названия очередного праздника нартов встречаем в сказании «Как нарты хотели опоить Урызмага»: «Нарты делали пир афæдзы æмбырд-цыты куывд. Вся нартовская молодежь собралась в доме Алагата» [5 кн. 2: 239]. В комментариях к сказаниям приводится объяснение: «Эти слова надо разуметь так: «афæдзы æмбырд» – «годовое собрание»; «цыты» – «почтение», или «честь»; «куывд» – «пир». Означает: годовое собрание почетного пиршества (годовой праздник – почетный пир)» [5 кн. 3: 65]. В данном случае, для нас важно указание на периодичность проведения праздника – афæдзы æмбырд (годовой, точнее – ежегодный).
Значение «молитва» в семантическом поле лексемы куывд является основным. Оно подчеркивает религиозный характер проводимого мероприятия, и, следовательно, его отнесенность к Священному времени: «… религиозный человек живет в двух планах времени, наиболее значимое из которых – Священное – парадоксальным образом предстает как круговое, обратимое и восстанавливаемое Время, некое мифическое вечное настоящее, которое периодически восстанавливается посредством обрядов» [11: 50]. Таким образом, куывд как в традиционной культуре осетин, так и в эпических сказаниях воспринимается как возможность восстановления в настоящем какого-либо мифического (и религиозного) события.
«Праздничное время», характерное для обрядовой культуры осетин (в частности, специальный кувд по случаю рождения мальчика), нашло отражение и в эпосе. В сказании «Как родился Арахцау, сын Бедзенаг-алдара» читаем: «Призвал Бедзенаг-алдар фидиуага (крикуна) и приказал ему прокричать по его большому народу, что у него родился сын. Когда народ услышал такую новую радость, то все резали, не жалея, больших белых быков, как барашков, и делали таким образом кувд – пир и веселились целую неделю» [4: 738–739]. В данном сказании интерес представляет и указание сказителем длительности кувда – неделя. Такой же срок установлен в указанном выше отрывке для празднования свадьбы. Как видно из проанализированных текстов, это наиболее распространенная временная протяженность праздника в эпических сказаниях.
В некоторых текстах праздник совпадает во времени с какими-либо событием, скажем, с битвой одного героя с другим:
«Дыууæ лæппуйы цъыччытæ систой
Сæ кæрдтæ уæрттыл цæхæртæ калдтой < … >
Уыцы рæстæджы Бурæфæрныгмæ
Хуынды уыдысты йе ‘мсæр æлдæрттæ,
Минас æм кодтой, хордтой мæ нуæзтой,
Ронг, физонæгæй сæхи æфсæстой. –
Двое молодых людей рубились,
От ударов их мечей по щитам летели искры < … >
В это время у Барафарныга
В гостях были равные ему алдары,
Трапезничали у него, ели и пили,
Ронгом, мясом угощались» [3: 175–176].
Или же недруг застаёт нартов за пиршеством: «Идет Бедзенаг и выносит огромный свой настоящий меч, меткое ружье, верные, без промаха, свои стрелы, настоящие золотой кумбыл и щит, которые навязал на себя маленький Арахцау, и отправился в дорогу к Нартам. Едет он, едет немало [и] приблизился к Нартам, которые в это время гостили у Алагата» [4: 742].
Любой поход (балц / стæр / хæтæн / цуан), предпринятый нартовскими героями, оканчивается праздником, в котором принимают участие все нарты: «Созырыхъо æд фос Нарты хъæумæ æрцыди æмæ сын куывдтæ фæкодта. – Созырыко со скотом пришел в Нартовское село и не раз устраивал нартам пиршества» [5 кн. 1: 169; 5 кн. 2: 108]. И подобный праздник также длится неделю.
Ещё один вопрос – «праздничное время» в игрищах (Нарты хъазт) и симде (ритуальном танце) нартов. Вспомним о понятии так называемого рекреационного времени. Основными формами социального времени являются рабочее и нерабочее (внерабочее) время, внутри которого выделяется свободное время. В свою очередь, рекреационное время входит в понятие свободного и является частью социального времени, используемого для сохранения, восстановления и развития духовного и физического здоровья. «Праздничное время» в этом понимании не противоречит рекреационному, следовательно, оно имеет место как в игрищах, так и симде нартов, поскольку чаще они являются логическим продолжением праздника.
«Нарты фæсивæд, нарты уазджытæ
Уæд хъазæн лæгъзы гуыпп-кафт сарæзтой,
Къæрццæмдзæгъд кодтой, тымбыл симд симдтой < … >
Хур куы ‘рныгуылди, бон куы ‘рталынги,
Уæд сæ кафт фесты, сæ хъазт райхæлди. –
Нартовская молодежь, нартовские гости
На поле игрищ устроили танцы,
В такт музыке хлопая, круглый симд танцевали < … >
Когда село солнце, когда день стемнел,
Окончился их танец, завершились игрища» [3: 119].
Примечателен следующий отрывок «Æртæ кæстæр гуымиры Нарты тымбылæй æрбаййæфтой куывды ‘мæ зæгъынц:
– Фарн уæ куывды! < … > хъазты охыл ыстут, æви хоныны охыл? < … >
Ацæ сыстади ‘мæ зæгъы:
– Нартæ сæ фæтк никуы халынц. Нарты хъазт вæййы æртæ боны. Абон не ртыггæгæм бон у, иу хъазт-ма акæнæм. –
Три младших гумира застали в сборе всех Нартов на кувде и говорят:
– Да будет фарн в вашем кувде! < … > намерены ли вы состязаться или намерены угостить нас? < … >
Аца встал и говорит:
– Нарты никогда не изменяют своим правилам. Хъазт (игрища) Нартов длятся три дня. Сегодня наш третий день, устроим еще один хъазт» [8: 454]. Далее в сказании дана картина состязаний Батраза с гумирами, в которых победу одерживает Батраз. Гумиры, по уговору, вынуждены принимать всех нартов у себя в гостях в течение недели. Спустя три дня Нарты говорят: «Æвæдза, кæстæртæн акафын дæр æмбæлы. – Всё-таки, младшим следует потанцевать» [8: 460]. Так, картина кувда опять сменяется картиной симда, который тоже носит состязательный характер. И здесь на помощь приходят данные словаря: хъазт в осетинском языке – 1) танцы; 2) игра [6: 493]; мы имеем дело не с явлением омонимии или многозначности, а с различными группами значений, объединённых признаком состязательности. О времени в спортивном смысле писал Хенниг Эйхберг [10: 77–78], выделяя его основные черты, такие как одномерность и абсолютный характер, направленность и необратимость, измеримость, длительность и др.
Таким образом, в рамках представленной работы была рассмотрена текстовая среда праздника на примере обрядового (праздник Аларды) и необрядового (Сказания о Нартах) фольклора, выявлены особенности праздничного общения как коммуникативного акта. В эпических сказаниях «праздничное время» локализовано и соответствует мифологическим представлениям о неразрывности времени и пространства. Собственно праздник, таким образом, можно принять за пространственно-временную лексему.
Рецензенты:
Фидарова Р.Я., д.ф.н., профессор, ведущий научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева Владикавказского научного центра Российской академии наук и Правительства Республики Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ;
Бекоев В.И., д.ф.н., доцент кафедры русской и зарубежной литературы ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова». РСО – Алания, г. Владикавказ.
Работа поступила в редакцию 07.03.2013.
Библиографическая ссылка
Дарчиева М.В. «ПРАЗДНИЧНОЕ ВРЕМЯ» В ЭПИЧЕСКИХ СКАЗАНИЯХ И ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ОСЕТИН (НА ПРИМЕРЕ ПРАЗДНИКА АЛАРДЫ) // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 4-4.
– С. 1000-1004;
URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31314 (дата обращения: 01.02.2023).
Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»
(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Осетинский народный календарь представляет собой сложную систему счета и регламентации годового времени. Одним из самых почитаемых во всей Осетии народных календарных праздников до сих пор является праздник в честь покровителя оспы, кори и глазных болезней — Аларды. Вероятно, именно с этим связана достаточно хорошая сохранность музыкальной составляющей культа. По свидетельствам информантов, обязательным атрибутом обрядов в честь покровителя оспы было исполнение песен «Алардыйæн зарæг» (ʻПесня в честь Аларды᾿). Источниками для проведения исследования послужили сборники «Ирон адæмон сфæлдыстад» — «Памятники народного творчества осетин», материалы из фондов Научного архива СОИГСИ (НА СОИГСИ), а также собственных полевых исследований. Музыкальный материал «Алардыйæн зарæг» достаточно широко представлен как в НА СОИГСИ, так и в личном аудиофонде автора. В рамках исследования проведен анализ более 20 образцов песен в честь Аларды. Выявлены поэтические особенности текстов, особое внимание уделено ладогармоническим и мелодическим особенностям песен. Общие наблюдения касаются динамики исторического развития, связанной с угасанием культа и потерей контекстов исполнения обрядовых песен. Анализ музыкальной составляющей культа Аларды, в котором отражаются древние религиозные представления и верования народа, дает возможность сделать выводы о том, что корпус песен в честь этого покровителя в прошлом состоял из трех типологических групп, исполняемых в различных обрядовых контекстах. Однако с течением времени культ осетинского покровителя оспы постепенно угасал, в связи с чем полностью вышли из употребления врачевальные песни, а также песни, исполняемые женщинами в честь Аларды во время обряда Тулæнтæ.
Ключевые слова: музыкальный фольклор, народный календарь осетин, обрядовые песни, Аларды, осетинская этномузыкология.
Мифо-религиозные верования осетин представляют собой сложно образованную систему, уходящую своими корнями в глубокую древность. Одним из самых почитаемых покровителей у осетин является Аларды° / °Алаурди (диг.) — покровитель оспы, кори и глазных болезней. О популярности этого святого свидетельствует огромное количество святилищ, построенных в его честь. Однако, как отмечают исследователи, особо почитался этот святой в тех местах, в которых эпидемия оспы унесла жизни большинства населения, например, в Алагирском ущелье. Стоит также отметить, что имя Аларды было одним из немногих, которое было позволено произносить женщинам. «…Отличие женской молитвы от прочих состоит в том, что перечисленные в ней святые именуются не настоящими именами, а произвольными, которые дали им осетинки, коим обычай, требующий от них скромности, запретил называть святых теми именами, под какими известны в народе, за исключением Аларды, Бынаты-хицауы и Хуцауы-дзуар» [1, 182]. Здесь стоит упомянуть, что клятвенные выражения, пожелания и проклятия с упоминанием Аларды использовали в своей речи, также, только женщины. Вероятнее всего, это связано с тем, что наиболее подвержены кожным болезням были дети, поэтому молились за них в основном матери. Следовательно, Аларды был покровителем женской сферы. Известно, что в ночь празднования нового года, молодые девушки молились Аларды о благополучии своих будущих детей. Одним из наиболее устойчивых выражений в молитвословиях, обращенных к Аларды, было: Уæ, Аларды, дæ чъылдыммæ дын кувдзыстæм, де ‘ргом нæм ма раздæх. — О, Аларды, мы будем молиться твоей спине, не обращай к нам твоего страшного лика [2, 43]. Стоит заметить, что вторая часть выражения также может интерпретироваться, на наш взгляд, как: «не поворачивайся к нам лицом», в значении «не обращай на нас своего внимания» или «не проявляй заинтересованность». Таким образом, акцент в молитве делается не на факт того, что люди боялись ужасного лика святого, а скорее боялись его гнева. Существует также и иное мнение. Так, З. Кусаева, в контексте описания ритуального поведения связанного с культом Цыкуырайы фæрдыг (ʻбусина, исполняющая желания᾿) отмечает: «Считая себя недостойными соприкосновения с реликвией, воплощающей в себе столь явное проявление небесной благодати, старательно прятали взоры, прикрыв лицо руками… подобное ритуальное поведение обусловлено религиозно-мифологическими представлениями осетин и сопоставимо с понятием Æргом дзуар, смысл которого сводится к особому почитанию небесных покровителей, отраженному в молитвенном обращении: «Де ’ргом нæм ма раздах! Дæ чъылдыммæ дын кувдзыстæм!» (Не яви нам свой лик! Будем молиться тебе со спины!)» [3, 125].
В Нартовском эпосе Аларды выступает эпизодически в разных циклах. Он оберегает Нартов от кожных болезней: «Аларды зæгъы: Нартæ æнгом кæй сты, уый тыххæй сын сæ рæзгæ сабиты сырхы низæй хъахъхъæндзынæн» («Аларды сказал: за то, что нарты сплоченные, я буду ограждать их детей от кожной болезни») [4, 8‑9]. Или наоборот, насылает их: «Уæдæй фæстæмæ Нартыл дзуæрттæ æцæгдæр рахатыдысты. Æфсати сын йæ фос нал лæвæрдта, æмбæхста сæ. Фæлвæра бынаты фосыл низ æфтыдта. Рыныбардуаг, Аларды — рын æмæ хæбузниз уагътой адæмыл» («С тех пор покровители действительно отвернулись от Нартов. Афсати больше не давал им своих животных, прятал их. Фалвара на домашних животных насылал болезни. Рыныбардуаг и Аларды — насылали на людей болезни и оспу») [5, 91]. Очень часто покровитель кожных болезней упоминается среди прочих небожителей, которые становятся гостями нартов во время различных мероприятий.
Наиболее интересен эпический сюжет, в котором приводится интерпретация смерти Батраза и пролитых по нему трех слез Бога. По распространенной версии из этих слез появились особо почитаемые у осетин святилища: Реком, Мыкалгабырта и Таранджелос. В данном эпическом сказании приводится иная трактовка сюжета, в котором одна из пролитых Богом слез обращается в Аларды. К тому же покровитель оспы здесь предстает избавителем от болезни: «Йæхæдæг ыл Хуыцау æркалдта æртæ судзгæ цæстысыджы æрттивгæ. Байгом кодта Хуыцау йæ арвы дуар. Иу цæссыг сæмбæлдис йæ ныхыл, æмæ йын йæ ныхы хъæдгомæн фестадис хъæдгом æгасгæнæг, æмæ ных айгаси, стæй фестади Нырыбардуаг æмæ зæдæй атахти. Дыккаг цæссыг сæмбæлдис Батрадзæн йæ фæтæн ныхыл æмæ фестадис дзуар Аларды, йæхæдæг ныппæррæст кодта цæхæртæ калгæ æмæ уæларвы зæдты астæу ысмидæг (ома фыдбылыз, низсафæг). Æртыккаг цæссыг та фестади Батрадзы ныхыл Таранджелозы зæххыл кувæндон, æмæ уый дæр атахти арвмæ» («Сам Бог пролил три горячие сияющие слезы. Открыл Бог свои небесные врата. Первая слеза попала на его лоб, и стала целительной для раны на его лбу, а затем, превратившись в Нырыбардуаг, улетела ангелом. Вторая слеза упала Батразу на широкий лоб и превратилась в ангела Аларды, сам вспорхнул он, сверкая, и занял свое место среди небесных покровителей (то есть избавляющий от болезней). Третья слеза, упавшая на лоб Батраза, превратилась в земное святилище Таранджелос, и оно улетело на небо») [6, 127].
Кроме того в Нартовском эпосе осетин встречается и вариант этимологии образа Аларды: «Уæрхæг уыди Бурæфæрныджы сиахс, мах æй ныртæккæ дæр ма хонæм Аларды (Бурæфæрныг)» («Уархаг был зятем Бурафарныга, мы его теперь называем Аларды (Бурафарныг)») [7, 48]. В этой связи стоит упомянуть, что, согласно сказаниям, Бурафарныг имел сад, в котором росли чудесные деревья, плоды этих деревьев воскрешали мертвых: «Нарты Бурæфæрныгæн уыд стыр æбуалгъы диссаджы цæхæрадæттæ, дыргъдæттæ, кæцыты дыргътæ уыдысты уд ирвæзынгæнæг, мард æгасгæнæг» («У нарта Бурафарныга были необычайные, чудесные огороды, сады, фрукты которых могли спасти душу, воскресить из мертвых») [7, 26]. Вероятно, фактор исцеления / воскрешения послужил сближению этих двух культурных героев в сознании народа.
Кроме того, в эпосе упоминаются супруга Аларды и его конь — Дзынæт.
Этимология названия Аларды до конца не изучена. В. Абаев считал, что «название Аларды, как и названия большинства осетинских дзуаров, несравненно моложе связанного с ним культа… оно происходит от названия местности Алаверды в Кахетии с древним и весьма почитавшимся в Восточной Грузии храмом Иоанна Крестителя, где ежегодно в сентябре справлялось празднество, привлекавшее множество богомольцев, в том числе много больных, приезжавших в надежде получить исцеление от «святого»» [2, 43‑44.]. Однако, по мнению Б. Алборова, связь храма с культом Иоанна Крестителя второстепенна, и осетинское Аларды в первой части восходит к ala — ‘огонь’. Как считает исследователь, «название местности Алаверди наводит нас на мысль, не имеем ли мы в самом деле здесь приурочения храма христианского святого к капищу древнего языческого божества Аларды» [8, 128]. Рассуждая об этимологии Аларды, Алборов приходит к выводу, что «при толковании происхождения Аларды… мы неизбежно восходим к религиозным представлениям сумеро-аккадийцев, ассиро-вавилонян и отчасти хеттов и египтян, заимствовавших эти представления у первых и переработавших их по‑своему» [8, 137].
Справляется праздник в честь Аларды несколько раз в год, в зависимости от местности, чаще всего весной и ранней осенью, в понедельник. Однако есть свидетельства, что, помимо этих дат, в различных районах Осетии отмечали и поклонялись этому святому и в другое время года, поэтому в каждом месте, в зависимости от конкретных фактов избавления от гнева Аларды, и отмечали данное торжество. Этим же объясняются разные сроки празднования — день, три дня, три недели и даже месяц [9, 70].
В честь святого закалывают жертвенное животное — белого ягненка или годовалого барашка. «Наряду с животной жертвой (каждая семья резала отмеченного заранее ягненка, голову, ноги и сердце которого дети, подростки с песнями и плясками приносили в место почитания божества), женщины несли туда вату и серебряную монету, вероятно, как символ очищения» [10, 184‑185]. В прошлом существовало поверье, что во время празднования дней Аларды ни в коем случае нельзя петь песни нерелигиозного содержания. Как пишет Гатиев, «однажды пирующие позволили себе петь нескромные песни, и за это оспа изуродовала их так, что скривились у них рты и глаза, и образовались на лицах их большие глубокие ямочки, после чего люди боялись встретиться с ними» [11, 49].
По имеющимся сведениям, обязательным атрибутом праздника в честь Аларды было исполнение обрядовых песен — Алардыйæн зарæг. «Жители аула Згит (недалеко от Садонского рудника) с воскресенья Фоминой недели, соединяясь по два семейства в одно, целый месяц пируют в землянках, устроенных около кувандона Аларды, воспевая ему хвалебные песни», — отмечает Вс. Миллер [12, 459]. Однако стоит отметить, что в более поздних этнографических записях исполнение песен фиксируется редко. Как замечают исследователи, этот элемент обряда со временем становится необязательным [13, 1001]. В настоящее время музыкальный фольклор органично возвращается в рамки ритуала силами фольклорных ансамблей и особо инициативной молодежи.
К числу традиционных формул обращения к святому, использующихся в поэтических текстах песен в честь Аларды, относятся эпитеты сыгъзæрин / сугъзæринæ — ‘золотой’, сырх / сурх — ‘красный’, сыгъзæринбазырджын / сугъзæринæбазургин — ‘златокрылый’, рухс / рохс — ‘светлый’.
Уæ, сыгъзæрин сырх Аларды! [14, 42]
Рохс Алаурди, табу дин кæнæн,
Уой, табу, табу æхецæн, уой, табу! [14, 44]
Уæй, дæ фæндаг раст, сугъзæринæбазургин Алаурди! [14, 46]
О золотой, красный Аларды! [14, 198]
Светлый Алаурди, славим тебя!
Уой, табу, табу ему, уой, табу! [14, 199]
Ой, счастливого пути тебе, златокрылый Алаурди! [14, 200]
Поэтические особенности песен в честь Аларды связаны с восхвалениями святого, молениями о скорейшем выздоровлении заболевших и просьбой о сохранении здоровья молящихся.
Ца ’гасæй нæ æрæййæфта,
Уа ’гасæй нæ куы ныууагъта,
Зæдты уæлейæ бадинаг,
Нæ сыгъзæрин сырх Аларды! [14, 44]
Табу дин кæнæн, рохс Алаурди,
Гъей, гъей-та, уарайда-рæ!
Нæ минкъи сабити нин дæ дари дусæй,
Гъей, гъей-та, уарайда-рæ!
Хуарзирдæмæ раидаудзæнæ,
Гъей, гъей-та, уарайда-рæ! [14, 45]
Как застал нас здоровыми,
Так здоровыми оставил нас,
О, достойный сидеть во главе зэдов,
Золотой наш, красный Аларды! [14, 198]
Славим тебя, светлый Алаурди!
Гей, гей-та, уарайда-ра!
По нашим малым детям своим шелковым рукавом,
Гей, гей-та, уарайда-ра!
К добру приведи / чтобы не болели / .
Гей, гей-та, уарайда-ра! [14, 199]
Основой построения сюжета текстов является перечисление жертвоприношений и лучшей ритуальной пищи с целью умилостивления и в знак благодарности за благожелательное отношение:
Бурхъус уæрыкк — дæ кувинаг,
Уалдзыгæндæй — дæ луаси [14, 43].
«Цæгати хуар — дæ бæгæниаг,
Уой, табу, табу æхецæн, уой, табу!
Хонсари мæнæуæ — дæ къереаг,
Уой, табу, табу æхецæн, уой, табу!
Борæнæлфустæ, рæсугъд уæлитæ дин нивондæн æвгæрддзинан [14, 44].
Мысыраг æвзист дæ нысайнаг,
Мередтаг бæмпæг дæ æвæрæн. [12, 108]
Фæлвæрай фонсæй де ’хсæрфæмбайлаг,
Гъей, гъей-та, уарайда-рæ!
Фæззи хумæй — дæ къереаг,
Гъей, гъей-та, уарайда-рæ!
Хонсари хумæй дæ бæгæниаг,
Гъей, гъей-та, уарайда-рæ!
Бæласи сæрбæл кæдзос хумæллæг,
Гъей, гъей-та, уарайда-рæ!
Йе, зæгъуй, дæ бæгæниæн,
Гъей, гъей-та, уарайда-рæ! [14, 45]
Барашек с желтым ушком тебе для жертвоприношения,
Из яровой пшеницы твои лепешки [14, 198].
Зерно с северных склонов тебе на пиво,
Уой, табу, табу ему, уой, табу!
Пшеница с южных склонов тебе на пироги,
Уой, табу, табу ему, уой, табу!
Откормленных баранов, красивых: ягнят в жертву тебе принесем [14, 199].
Египетское серебро тебе на пожертвование,
Имеретинская вата твое ложе.
От скота Фалвары тебе на ахсарфамбал,
Гей, гей-та, уарайда-ра!
С пашни осенней тебе на лепешки,
Гей, гей-та, уарайда-ра!
С пашни южного склона тебе на пиво,
Гей, гей-та, уа-райда-ра!
На вершине дерева чистый хмель,
Гей, гей-та, уарайда-ра!
Это, говорят, тебе на пиво,
Гей, гей-та, уарайда-ра! [14, 199]
Встречаются также тексты диалогической структуры, участниками которых, наряду с Аларды, становятся и другие осетинскими небожители:
Изгиди бæстæбæл рохс Алаурди рацæйцудæй.
Хуарз Уасгерги йибæл уоми фенбалдæй:
– Уæй, дæ фæндаг раст, сугъзæринæбазургин Алаурди!
– Уæй, дæ гъуддаг раст, уæй, дæ гъуддаг раст, хуарз Уасгерги!
– Кумæ цæуис, рохс Алаурди?
– Дæлæ будури и федтуйнæгтæмæ æз ку цæун! [14, 46]
По Згидской земле прошел Алаурди.
Добрый Уасгерги там ему повстречался.
– Ой, счастливого пути тебе, златокрылый Алаурди!
– Ой, удачи тебе, ой, удачи тебе, добрый Уасгерги!
– Куда идешь, светлый Алаурди?
– Да вот на равнину к должникам ’ я иду! [14, 200]
Нами было зафиксировано четыре обрядовые ситуации исполнения песен в честь Аларды. Первая и наиболее распространённая в ритуальной практике осетин, во время столования устраиваемого в рамках календарного праздника в честь святого. Данная песня исполнялась исключительно мужчинами. Вторая ситуация связана с обрядом Тулæнтæ, который «представляет собой ритуальное действо, совершаемое над появившимися в течение года на свет мальчиками в промежутке между празднованием ежегодных Дней Аларды, покровителя детей. Младенцев приносят женщины к священному Аларды… Туго запеленатыми их укладывают на плоский камень и трижды перекатывают, произнеся благопожелание… В прежние времена, приближаясь к святилищу, женщины исполняли обрядовую песню» [15, 147]. Третья обрядовая ситуация не связана с календарным праздником, а исполняется по необходимости. Песню в честь Аларды исполняли и у постели больного, на которого, по мнению окружающих, наслал болезнь святой Аларды. Подобные врачевальные песни в честь покровителя оспы, существуют у адыгских народов. По мнению исследователей, «особая ритуальная церемония, когда в лечебных целях прибегали к пению, позволяла больному и всем ее участникам психологически подготовиться к процессу излечения; формировало у них чувство уверенности в положительном исходе лечения» [16, 138]. Также известно, что песню «Алардыйæн зарæг» принято было петь у гроба покойного умершего от болезни, патроном которой являлся Аларды.
Подавляющее число песен в честь покровителя оспы зафиксировано в типичной для осетинской традиции многоголосной фактуре. Анализ имеющихся аудиозаписей выявил, что основной корпус напевов разнороден по структурным признакам. Например, различия связаны с типами организации стиха. Здесь представлены силлабические цезурированные стихи, объем которых колеблется от восьми до одиннадцати слогов с нормативными вариантами строк в виде восьмисложника 4 (5) + 4 (табл. 1).
Некоторое число вариантов связано с более длинными конструкциями 6 (7) + 4 (табл. 2).
Встречаются также восьмисложные фигуры, где заключительная слоговая группа выступает в качестве трехсложника 6+3 или 5+3 (табл. 3).
Также можно обнаружить тексты, организованные по принципу тирады, слоговой состав которых оказывается нестабилен. Здесь встречаются образцы с увеличением количественно-слогового состава стиховой строки. В некоторых образцах длина строки достигает 12‑18 слогов (табл. 4).
Наиболее распространенная структура строфы напевов песен в честь Аларды представляет собой модель: AR→ВR→CR и т.д., где R представляет собой структурно обособленное построение. Также в нескольких образцах встречается тип стиховой строки типа АВ→СD→EF и т.д. Один из исследуемых образцов представляет собой тип, в целом не характерный для осетинской ритуально-обрядовой песенности, где напев начинается с рефрена: RA→RВ→RС и т.д.
Наиболее устойчивы конструкции, в финальной части которых непременно содержится восхваление / обращение к святому:
• Аларды!
• Аларды, табу!
• Табу Аларды!
• Табу, (о) табу рухс Аларды!
• Ой, табу сызгъæрин Аларды!
• Ой, дæ хорзæх Аларды!
• Табу, дæ хорзæх Аларды, гъæй!
• Уæй, табу дæ хорзæх Аларды!
Ритмоформула припева мобильна и колеблется от 3 до 10 ритмических единиц. Наиболее распространены следующие виды (табл. 5).
Своеобразие слоговой музыкально-ритмической формы некоторых исследуемых образцов [17, 143‑144] связано с принципиальной нестабильностью музыкального времени слогоритмического периода смысловой части стиха. Объем музыкального времени колеблется в диапазоне от 14 до 25 счетных единиц, что в большей степени обусловлено количеством слогов распеваемого поэтического текста.
Сводный звукоряд напевов песен в честь Аларды разворачивается в объеме от кварты до ноны. Нами было выявлено несколько обобщенных моделей ладового строения напевов. Они обусловлены простыми ладовыми системами, которые характеризуются постоянством функций элементов лада и наличием одной центральной опоры. Музыкальная логика в подавляющем большинстве образцов связана с движением от первой побочной опоры через вторую к обобщающей основной опоре (А1→А2→Т). При этом идентичные ладовые функции могут быть представлены различными вариантами строения вертикали (унисон, терция, кварта, квинта, октава, трезвучие).
Обобщая аналитические наблюдения над ладо-гармоническими и поэтическими особенностями песни, исполняемой в честь покровителя оспы, отметим, что, вероятно, некогда существовало несколько типологически разных песен, включенных, соответственно, в различные обрядовые ситуации (молитвенная песня, врачевальная и заклинательно-магическая), которые со временем, в связи с угасанием культа Аларды, составили единый фольклорный жанр.
______________________________________________________
1. Периодическая печать Кавказа об Осетии и осетинах / Cост. Л. А. Чибиров. Цхинвали: Ирыстон, 1987. Кн. 3.
2. Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. М.-Л.: Наука, 1958. Т. 1.
3. Кусаева З. К. Цыкурайы фæрдыг (чудесная бусина) и «магический кристалл» А. С. Пушкина // Нартоведение на рубеже XX‑XXI вв. 2017. № 4. С. 124‑133.
4. Нартовские сказания: Эпос осетинского народа / Сост. Т. Хамицаева, Ш. Джикаев. Владикавказ, 2012. Кн. 7.
5. Нарты кадджытæ. Т. IV / Сост. К. Ц. Гутиев // Мах дуг. 2006. № 1. С. 82‑103. (на осет. яз.)
6. Нартовские сказания: Эпос осетинского народа / Сост. Т. Хамицаева. Владикавказ, 2005. Кн. 3.
7. Нартовские сказания: Эпос осетинского народа / Сост. Т. Хамицаева. Владикавказ, 2003. Кн. 1.
8. Алборов Б. А. Ингушское «Гальерды» и осетинское «Аларды» // Некоторые вопросы осетинской филологии. Орджоникидзе, 1979. С. 52‑141.
9. Уарзиати В. С. Избранные труды: Этнология. Культурология. Семиотика / сост. В. А. Цагараев, Е. М. Кочиева. Владикавказ, 2007.
10. Хамицаева Т. А. Календарные обряды и обрядовая поэзия осетин весенне-летнего цикла // Вопросы осетинской литературы и фольклора. Орджоникидзе, 1988. С. 182‑197.
11. Гатиев Б. П. Суеверия и предрассудки у осетин // Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1886. Вып. 9. С. 1‑83.
12. Миллер Вс. Осетинские этюды // Ученые записки императорского Московского университета. М., 1881. (Репринтное издание: Владикавказ, 1992. Вып. 1.
13. Дарчиева М. В. «Праздничное время» в эпических сказаниях и традиционной культуре осетин (на примере праздника Аларды) // Фундаментальные исследования. 2013. № 4‑4. С. 1000‑1004.
14. Памятники народного творчества осетин: Трудовая и обрядовая поэзия осетин / Сост. Т. А. Хамицаева; пер. Г. А. Дзагурова, Т. А. Саламова, Д. Г. Тменовой, А. А. Хадарцевой и Т. А. Хамицаевой. Владикавказ, 1992.
15. Кусаева З. К. Обряд как сюжетообразующий компонент в осетинской «Нартиаде» // Осетинский язык в условиях глобализации: Материалы II Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции. М., 2014. С. 143‑156.
16. Аршба С. Г. Народная медицина абхазов. Москва, 2007.
17. Осетинские народные песни, собранные Б. А. Галаевым в звукозаписях, нотированных совместно Б. А. Галаевым и Е. В. Гиппиусом / Под ред. и с предисл. Е. В. Гиппиуса. М., 1964.
18. Научный архив СОИГСИ. Ф. Искусство. Оп. 2.
19. Дзлиева Д. М. Личный архив. Аудиофонд.
скачать статью PDF
АЛАРДЫ
- АЛАРДЫ
-
Ирон мифологийы æппæты карздæр бардуаг, сывæллæтты низ фадынæджы бардуаг. Рагон Ирыстоны-иу фадынæгæй сабитæ дзæвгартæй цагъды кодтой, цы сывæллон-иу дзы фæрынчын, уымæн-иу сдзæбæх æнхъæл ничиуал уыд. Афтæ карз уыд ацы низ, æмæ дзы ирон адæм тынг тарстысты. Уый тыххæй дзы нымд кодтой, йæ фæсномыгæй йæ хуыдтой «дзуар». Дзуары бынаты йæ сæвæрдтой. Аларды та уыд йæ бардуаг. Уымæ куывтой, уымæй агуырдтой, цæмæй сын сæ цотмæ фадынæг ма æрбауадза. Алардыйы хуыдтой рухс, сыгъзæрин. «Рухс, сыгъзæрин Аларды, табу дæхицæн, – куывта-иу хистæр. – Зæхмæ куы æрцæуыс, уæд-иу нæ хъазгæ-худгæйæ ныууадз! Де ‘ргом нæм макуы равдис. Дæ чъылдыммæ дæм сыгъзæрин тæбæгъты кувдзыстæм».
Алардыйы бæрæгбон афæдз вæййы дыууæ хатты: уалдзæджы æмæ рагвæззæг, къуырийы бонтæй та – къуырисæры. Ирон адæммæ-иу уæлдай кадджындæр уыд, сывæллæттæ-иу фадынæгæй рынчын кæнын куы райдыдтой, уæд. Рынчыны цур хъæрæй ныхас нæ уагътой, чи йæм каст, уый та хъуамæ уыдаид хæрз сыгъдæг æмæ аив уæлæдарæсы. Алардыйæн æргæвстой урс уæрыччытæ, кæнæ афæдздзыд фыстæ. Цæмæй йын йæ хорзæх ссардтаиккой, уый тыххæй-иу йæ номыл куывдтæ адаргъ сты мæйы бæрц дæр.
Алардыйы куывдты кæд устытæ нæ бадтысты, уæддæр ыл уыдонæй тынгдæр ничи аудыдта: цотгæнæг уыдон сты, сомы дæр дзы уыдон кодтой. Ногбоны-иу Фыссæн æхсæвы чызджытæ куывтой, цæмæй сын Аларды сæ фидæны цот фадынæгæй бахъахъхъæна. Уæдæ æппæты тынгдæр æлгъыст та уыд: «Алардыйы фыдæх ссар».
Фадынæгæй-иу цы сывæллон амард, ууыл Алардыйы тæсæй кæугæ дæр нæ кодтой. Алардыйы зарæг кæнгæйæ-иу æй баныгæдтой.
Словарь по этнографии и мифологии осетин.
2014.
Полезное
Смотреть что такое «АЛАРДЫ» в других словарях:
-
Аларды — (осет. Аларды) персонаж осетинской мифологии, божество, насылающее оспу и корь на детей. Мифология Аларды в осетинском пантеоне является одним из самых злейших и грозных божеств, наводящее ужас на людей. Аларды представлено как белое… … Википедия
-
АЛАРДЫ — в осетинской мифологии властелин оспы. Согласно мифам, А. живёт на небе, откуда спускается по золотой лестнице. Он изображается красным или светлым крылатым чудовищем, наводящим страх на людей. Чтобы умилостивить А., его называли золотым, светлым … Энциклопедия мифологии
-
Аларды — см. Аларды – перевод Аларды – дзуары (стæй фадынæджы æмæ цæсты низты) бардуаг ирон мифологийы. Ирон адæмы хъуыдымæ гæсгæ Аларды у сырх, хаттæй хатт та æбуалгъ урс базырджын цæрæгой, адæмы стыр тас чи уадзы, ахæм æвирхъау фыдуынд цæсгомимæ. Цæры… … Словарь по этнографии и мифологии осетин
-
Аларды — святилище в долине р.Фиагдон (респ. Северная Осетия). Аларды в осетинской мифологии – божество оспы и кори … Топонимический словарь Кавказа
-
Аларды – перевод — см. Аларды Аларды – в осетинской мифологии божество оспы, кори и глазных болезней. По представлениям осетин, Аларды – красное, иногда белое крылатое чудовище с очень безобразным лицом, наводящим страх на людей. Живет на небе, но иногда спускается … Словарь по этнографии и мифологии осетин
-
АЛАРДЫЙЫ БÆРÆГБОН – перевод — см. АЛАРДЫЙЫ БÆРÆГБОН Перед праздником Аларды справляют день Рыны бардуага (повелителя эпидемий – рын). Имя божества уже свидетельствует о его характере, и поэтому люди молились ему, чтобы оно не посылало на них эпидемий, мора, ограждало от… … Словарь по этнографии и мифологии осетин
-
АЛАРДЫЙЫ БÆРÆГБОН — см. АЛАРДЫЙЫ БÆРÆГБОН – перевод Алардыйы бæрæгбоны хæдразмæ фæкæнынц Рыны бардуаджы бæрæгбон (кæс Аларды, Рыны бардуаг, АЛАРДЫ). Рыны бардуагæн йæ ном – йæ миниуджыты хуыздæр æвдисæн. Адæм æм куывтой, цæмæй сæ рынæй хъахъхъæн … Словарь по этнографии и мифологии осетин
-
АЛАРДЫЙЫ ЗАРÆГ — Табу дæуæн кæнæм, рухс Аларды! Хуссары мæнæуæй – дæ чъирийаг Уæй, табу – дæ бæгæныйаг Табу дын фæуæд, рухс Аларды! Фæлвæрайы фосæй дын урс уæрыкк нывондаг! Табу дын кæнæм, сыгъзæринбазырджын рухс Аларды! Фæрвы хуымæллæгæй – дæ бæгæныйаг Мысираг… … Словарь по этнографии и мифологии осетин
-
Ног дзуар – перевод — см. Ног дзуар (букв. «новый святой») I – покровитель жителей и выходцев селения Кани Даргавского ущелья. Оберегает жителей селения от всяческих невзгод. По представлениям осетин, Ног дзуар имеет облик человека, он ревностно следит за соблюдением… … Словарь по этнографии и мифологии осетин
-
Три пирога — (осет. æртæ чъирийы) часть традиционного осетинского обряда, совершаемого в большие национальные или фамильные праздники. На стол подаются три пирога и произносятся молитвы в порядке строгой очерёдности. Наряду с тремя пирогами кладутся три ребра … Википедия
Проектная работа
Номинация: «Национальные традици»
Название работы: «Аларды»
Руководитель проекта — Хадаева Фатима Еркиновна
Консультант проекта — Багаева Фатима Федоровна
- Предметная область, в рамках которой проводится работа по проекту — национальные традиции
- Возраст учащихся, на которых рассчитан проект- 10-11 лет
- Состав проектной группы- учащиеся 3 «б» класса
- Типология проекта – собственно — исследовательский, творческий
- Цель проекта: формирование у участников проекта исторической памяти на основе углубления знаний о народных традициях и обычаях
Задачи проекта:
1)сохранение народных традиций и обычаев;
2)воспитания уважения к культуре осетинского народа.
Необходимое оборудование: компьютер, презентация
Форма продукта проектной деятельности: тесты
Национальные традиции и праздники занимают важное место в жизни народа. Ритуал проведения их ярко отражает характер народа, его психологию, жизненный опыт
Йæ бæрæгбон чи куыд кæны, уый дзурæг у йæ культурæйыл, йæ зондахастыл, цардмæ йæ цæстæнгæсыл, йæ тырнындзинæдтыл
Из осетинских божеств мы выбрали то, что непосредственно относилось к нам — детям — Аларды
Перед постом справляли масленицу (Цæрвкъахæнта). Для этого каждая хозяйка с осени заготовляла кувшин топленого масла и сыр для праздника. Из этого готовили цæрвæхсидæн (род каши из муки и масла). Из приготовленного для праздника кувшина с маслом первым давали отведать младшему в семье, что имело культовое значение.
Аларды- божество оспы, кори и глазных болезней — суровое божество. Особенно опасен был Аларды для детей и женщин. Люди боялись обидеть его, разгневать, даже молились с оглядкой, извиняясь за беспокойство
Во многих горных селениях были «пашни Аларды», урожай с которых предназначался для проведения обще-сельских кувдов в его честь. В праздник молодую невестку приводили в святилище Аларды, его называли «Светлый Аларды», «Золотокрылый Аларды», «Красный Аларды» и так далее
Пироги на Аларды пекли из помола пшеницы, росшей на южных склонах. В жертву приносили белого ягненка. Старший произносил молитву: «О Светлый Аларды, табу тебе. Возьми наших под свое покровительство, а старших одари хорошим зрением! О Аларды, табу тебе! Не приближайся к нам — издали будем молиться тебе. А если надумаешь прийти, то в добром распоряжении духа, будешь уходить — оставь нас в веселии».
Если кто-то из детей переболел чем-то, то обязательно приносили в жертву барана, варили пиво, пекли маленькие пироги. Это бывало не простая трапеза, она носила культовый характер. Молились божеству Аларды, чтобы оно оберегало детей от болезней.
Ко дню праздника Аларды каждая осетинская семья готовилась особенно тщательно. Тесто для пирогов делали только на молоке
Аларды — одно из древнейших божеств в Осетии. Это очень строгое божество, любящая чистых и телом и душой. Только их молитвы принимало божество. Если семья честная, живет по законам божьим, то детей такой семьи оно оберегает.
Но Аларды может и покарать. Наши предки связывали появление болезней, насланных Аларды с явлениями природы. Два раза в год спускалось божество на землю: зимой и весной. Поэтому восточные осетины (иронцы) справляют праздник Аларды зимой, а западные осетины (дигорцы) празднуют этот день весной в мае.
Как молились строгому божеству? В молитвах просили его не поворачиваться к ним лицом. Повернуться лицом- покарать. Почти в каждом селе было свое святилище Аларды. После всего, как возносили молитвы богу, Аларды и другим святым, дети в сопровождении одного взрослого шли к этому святилищу (обычно это большой камень). С собой брали молоко или сладкую воду. Снова молились у святилища, в щели камня клали монетки, стараясь умилостивить божество.